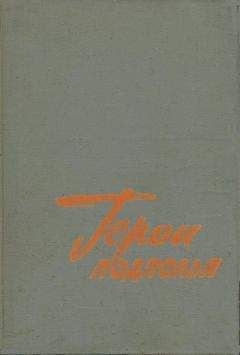Лев Самойлов - Пароль — Родина
Обозленный неудачей, Величенков собрался было отползать в лес и подаваться на базу, но задержался, увидев, что неподалеку у обочины остановился грузовик, из кузова выпрыгнули и стали разминаться солдаты (их было больше десятка), а шофер поднял капот и начал возиться у двигателя. У Павла Величенкова, парня смелого, но не очень дисциплинированного, буквально зачесались руки. «Эх, подкосить бы сейчас всю эту сволочь», — подумал он, забыв о категорическом приказе командира: ничем не обнаруживать себя и выполнять только то, что поручено. «Хоть одного или двух на тот свет отправлю, а остальных попугаю».
Величенков прицелился из винтовки в немецкого шофера и выстрелил. Шофер вскрикнул и свалился возле грузовика. Остальные солдаты мгновенно попадали на землю и открыли автоматный огонь по направлению, откуда раздался выстрел. Пули стали рассекать кусты и свистеть над головой разведчика. Величенков успел выстрелить еще два раза, но вынужден был поскорее уходить: одна из немецких пуль попала ему в мочку правого уха и оторвала ее. Острая боль пронизала все тело партизана. Горячая липкая кровь потекла за ворот телогрейки.
Величенкову удалось благополучно скрыться, так как немецкие солдаты его не преследовали и в лес не углублялись. Они еще несколько минут постреляли из автоматов, затем стрельба прекратилась.
На базе Величенков появился под вечер, бледный, дрожащий от холода и боли. Голова его была обмотана грязной тряпкой, на телогрейке и руках виднелись пятна крови. Чувствуя себя виноватым, он понуро стоял перед командиром отряда, переминаясь с ноги на ногу.
— Ты понимаешь, что натворил? — Лейтенант Карасев был зол до крайности и сердито поглядывал на испуганное лицо партизана. — Почему ушел раньше времени? Почему самовольно стрелял? Ты не только разведку сорвал, а и партизанский отряд под удар поставил. Да будь ты в армии, за такое дело…
— Виноват, товарищ лейтенант… Но я все же фашиста подстрелил.
— Подстрелил! А подумал ли ты, что мог за собой гитлеровцев притащить и завалить нашу базу? А? Отвечай же!..
Он все больше и больше сердился и повысил голос. Однако неожиданно смолк, почувствовав под столом легкий толчок в ногу. Михаил Алексеевич Гурьянов, присутствовавший при разговоре и не проронивший во время «разноса» ни слова, пытался таким способом успокоить и остановить командира. Карасев понял и махнул рукой.
— Иди к Гусинскому, пусть перевяжет. Мы поговорим еще… попозже…
Павел Михайлович Величенков, красивый русоволосый парень, гордившийся своей внешностью и молодцеватой выправкой, был до войны милиционером. Милицейскую форму он носил с щеголеватой самоуверенностью, а на коне гарцевал с лихостью завзятого рубаки-кавалериста. Служба в милиции была ему явно по душе, начальники его ценили, но поругивали за характер, не укладывавшийся в служебные рамки. Порывистый, несдержанный, вспыльчивый, Павел зачастую горячился и распалялся по пустякам.
В партизанский отряд Величенков пришел с большой охотой. «В армию не взяли, так я здесь повоюю». Однако его горячность и несдержанность мешали ему правильно осмыслить все, что на первых порах осуществляло командование отряда. Всю подготовительную работу, всю «хозяйственную кутерьму» он считал делом зряшным, нестоящим. Когда партизаны строили землянки, Величенков трудился вместе со всеми, но часто ворчал и поругивал за глаза, конечно, командиров. «Мы плотники или бойцы? — бубнил он, ни к кому не обращаясь. — Когда начнем фашистов бить? И в разведку не пускают. Горяч, видите ли. А может, я спокойных не уважаю!»
— Заткнись, Паша, — советовали ему. — Не разводи антимонию.
— Сами вы антимони… Куда это годится? Вчера прошусь — пошлите в разведку, а мне говорят: иди притащи солому. Ну, пошел я за этой чертовой соломой. А тут дождь проливной прихватил. Притащился я, как общипанная курица, мокрый, и все из-за чего? Из-за соломы…
К председателю райисполкома Гурьянову Павел Величенков относился не только с уважением, а с искренним восхищением. «Душа-человек», «Сердечный дядя», «Свой до последней пуговицы» — так отзывался Величенков о Гурьянове. Однако доставалось и тому.
— Михаил Алексеевич тоже в командирскую дуду дудит. «Зелен ты, Пашка, мальчишества в тебе много…» Так, может, мне по-стариковски на печку залезть? Не того сорта я, чтобы на насесте кукарекать.
Командирам пришлось крепко предупредить Величенкова; он на время притих и даже хозяйственные поручения стал выполнять быстро и добросовестно. Тогда по предложению Кирюхина Величенкова стали посылать в разведку. Ух, как загорались глаза у неугомонного Пашки, когда его снаряжали в далекий путь. Проползти ужом мимо немецких патрулей, проникнуть в деревню, занятую оккупантами, подбросить в избы листовки и газеты — все это увлекало, захватывало Величенкова настолько, что он порой забывал об осторожности. Вот и на сей раз, когда появилась возможность подстрелить фашиста, он забыл об инструктаже и «сорвался».
Случай с Величенковым тем более обеспокоил командование отряда, что аналогичный поступок недавно совершил всеми уважаемый опытный разведчик коммунист Герасимович. Герасимович и Шепилов, замаскировавшись под густыми елями, стояли на посту в 20—30 метрах друг от друга. Почти одновременно они заметили пять фашистских разведчиков, осторожно двигавшихся через густой лес. Очевидно, опасаясь за свои тылы, немцы прочесывали часть лесного массива. Шепилов, памятуя приказ, пропустил вражеских солдат, а Герасимович, которого вдруг охватило нервное возбуждение, вскинул свой канадский карабин и выстрелил. Выстрел гулко прокатился по лесу. Гитлеровцы, не открывая ответного огня, поспешно повернули назад и потащили за собой упавшего, видимо, тяжело раненного солдата и скрылись с глаз.
Выстрел всполошил весь лагерь. Партизаны по тревоге бросились на помощь своим дозорным. Герасимович встретил товарищей радостными возгласами:
— Я фашиста ухлопал!.. Я первый открыл счет!..
По распоряжению Карасева партизаны проверили лес и на опушке, неподалеку от лагеря, обнаружили окровавленный немецкий френч, пилотку, оцинкованную банку с патронами и лужу крови. Герасимович торжествовал:
— Не промахнулся! Хоть одного, а с нашей земли на небо отправил.
Но радость партизана быстро улетучилась, когда Гурьянов и Карасев взяли его в оборот. Герасимович долго хмурился и молча выслушивал упреки командира и комиссара, но, наконец, согласился:
— Да, товарищи, сплоховал я. Забыл, что лагерь наш близко. Не сдержался… Бить меня, дурака, надо. Но верьте, такое больше не повторится.
И вот теперь комсомолец Величенков повторил проступок коммуниста Герасимовича. Судить парня? Выгнать из отряда? Такие крайние меры пока применять не хотелось. Но надо было еще и еще раз поговорить со всеми о дисциплине в партизанской войне, о неуклонном выполнении приказов, о боевой организованности.
Через час в землянку к партизанам, где в углу примостился уже умытый и перевязанный Величенков, будто невзначай заглянул Гурьянов. В землянке было тесно. Выпало свободное время, и каждый из партизан занимался своим делом.
Ходики показывали семь часов. Трудное время — так обычно характеризовал вечерние часы комиссар отряда Михаил Алексеевич Гурьянов. Действительно, партизаны особенно остро испытывали по вечерам тоску по семье, по домашнему уюту.
Люди семейные, они десятилетиями привыкали к размеренному течению жизни: с утра уходили на работу, к вечеру возвращались домой, к жене, к ребятам, к заботам по хозяйству; вечерами слушали радио, помогали детям готовить уроки, вели обстоятельный разговор о делах международных или о нуждах своего села и района с заглянувшим на «огонек» сослуживцем, соседом, добрым приятелем.
На столе уютно попыхивал самовар, по дому привычно хлопотала жена, и все казалось устойчивым, неизменным. Но пришла война — и все сломалось. Правда, редко кто из партизан сетовал на тяготы лесной жизни, и все же Курбатов и Гурьянов отлично понимали, как тяжело их товарищам, как трудно каждому ломать себя, менять характер.
У входа в партизанскую землянку Михаил Алексеевич внезапно услышал громкие раскаты смеха, остановился, прислушался и одобрительно кивнул головой. «Коли смеются, значит, все в порядке». Переждав немного, он осторожно стал спускаться в «подземное царство».
В глубине, на нарах, тускло освещенных двумя небольшими керосиновыми лампами, кучно сидела группа партизан. В центре расположился ефрейтор Илья Терехов. Рядом с ним, сердито посапывая, устроился молодой чубатый партизан Федор Зубилин, спокойный, незлобивый парень, охотник и птицелов. На коленях у Терехова лежала гитара. Видно, до гитары дело еще не дошло, так как Илья «ораторствовал» увлеченно, размахивая руками:
— Я точно говорю, такое постановление было бы уже напечатано, да вот война помешала. Мне его в Калугу на консультацию присылали, но полного его содержания я, конечно, не помню. Мало ли бумаг приходилось подписывать…